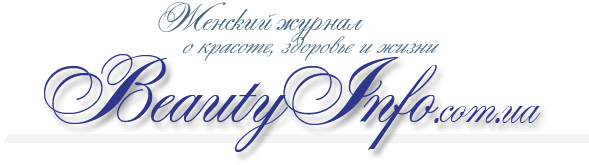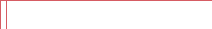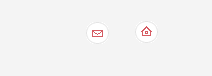ГЛАВА 17
Иван сидел за компьютером, когда зазвонил телефон.
– Я вижу, что ты, сынок, дома, – сказала мать. – Чем занимаешься?
– Пытаюсь писать.
– Песню «Анастасия» уже не слушаешь? Пора бы тебе перестать ее слушать, только душу себе растравляешь.
– Не слушаю. Пытаюсь увлечься другой девушкой, Гердой.
– Герда, эта та девушка, у которой ты ночевал?
– Она самая.
– Ну, дай бог. Может, бросишь пить. Я понимаю, что ты переживаешь, но это не по-мужски.
– Уже бросил. Мне заказали роман.
– И приличное издательство?
– Не пойму. Что-то непонятное, но аванс дали приличный.
– Сколько дали?
– 100 тысяч евро.
– Неужели? Такие огромные деньги!? Отдай их мне, у меня целее будут.
– Могу дать только девяносто девять тысяч, потому что тысячу отдал Люде.
– Какой Люде, однокласснице?
– Ну да. Той, что в баре работает. Знала бы ты, как она меня выручала, когда душа требовала.
– Ой ли? Выручала ли? Ну да Бог с ней, с тысячей. Важно, что тебя оценили, и ты будешь, наконец, занят любимым делом, а не ящики таскать. А еще важнее в данный момент начисто забыть Анастасию.
– Герда поможет ее забыть.
– Приличная девушка?
– Приличнее некуда. Она даже не красится.
– По-твоему, это уже все?
– По-моему, это говорит о наличии мозгов.
– Не будь так строг к женским слабостям. Красиво, или, по крайней мере, не некрасиво выглядеть – это вежливость женщины по отношению к мужчине. Ладно, надо что-то на обед приготовить. Надеюсь, что теперь ты будешь умницей. Да, еще: если у вас с Гердой завяжется что-то серьезное, то приезжай с ней к нам, чтобы не ошибиться во второй раз.
– Вы что с отцом, критерий истины?
– Какой-никакой.
– Но рука у нее тяжелая.
– Как это? Она драчунья?
– Еще какая!
– Не связывайся с такой.
– Но это у нее от прямоты. Если хитрость порок, то прямота, по логике, должна быть достоинством.
– Не знаю, не знаю. Прямота бывает хуже воровства. Жизнь, она ведь штука непростая. Состоит она не из тонов, а из полутонов, оттенков и, к несчастью, всегда грязновата, как акварель, попавшая под дождь.
– Тогда я буду писать свою жизнь маслом.
– Дай бог нашему теляти…. А впрочем, я рада, что ты так воодушевился. Ну да ладно. Садись, работай. Творческий труд создал из обезьяны человека. Может, и из тебя что-нибудь выйдет. По крайней мере, ты теперь не неприкаянный. Только ты должен печататься под псевдонимом. Быть знаменитым, если такое будет, не просто некрасиво, но, по моему мнению, даже гадко. Китайцы говорят, что лучшие люди проходят незаметно. Помни это.
– Я тоже так иногда думаю. И, поверь, я не знаменитым быть хочу, я хочу себя реализовать.
– Опять что-то сюрреалистическое задумал?
– А почему бы и нет? Сюрреалист Дали переплюнул всех реалистов.
– Кто кого переплюнул – это еще как посмотреть. Кто как рассудит.
– И все же я за сюрреализм. Реализм может вызвать слезы или смех, радость или печаль, но поразить он не может. А мой роман, если получится, будет не только вызывать смех и слезы, радость и печаль, но еще и поражать.
– На твоем сюрреалисте Сальвадоре Дали не сошелся клином белый свет и на тебе не сойдется, потому что ты просто хвастун. Все, я вешаю трубку, настолько мне твой гонор отвратителен.
– Мама, подожди, но у любого творческого человека должен быть такой гонор. Просто он не должен его показывать. И вообще, стать совершенным человеком, это значит перестать быть писателем. Писатель должен быть наполовину подлецом. Иначе он будет наводить скуку. Да, да, мама. Быть совершенным – скучно.
– Тебе только тридцать три года, поэтому ты так говоришь. А вот будет тебе лет на тридцать побольше, может и поймешь тогда, что быть совершенным – самое большое удовольствие. Ты сможешь получать куда большее эстетическое наслаждение, находить его во всем и этим радоваться жизни. А пока порадуй мать хотя бы скромностью. Сказать, что твой роман потрясет мир – это нескромность, а лучшие люди –они без гонора, они как мышки, только шуршат. И чем тише человек шуршит – тем человек и лучше. Человек должен бежать от славы, как от чумы, а ты к ней, как не оправдывайся, а стремишься.
– А если я хочу поражать не ради славы, а ради денег?
– Это уже менее безнравственно, как ни странно. Но все равно, хочешь больше игрушек купить?
– Мама, да все мы дети. Это – данность. Даже в 80 лет люди – дети, а мир – это огромный детсад. Вот только в детсаду дети находятся под присмотром воспитателей, а мир ни под чьим присмотром не находится.
– Ты когда-то заикался о боге.
– Да это так, мечты…
– Какие мечты?
– В первую очередь мечты о справедливости и бессмертии.
– Да я, откровенно говоря, не против идеи бога. Бог все же делает многих – я себя к их числу не отношу – более нравственными.
– Ты права. Многие считают бога образцом нравственности, но бог, если он есть, – безнравственен. Но не со зла. Должность у него такая, безнравственная. А нравственность – это уже дело сугубо человеческое, это он целиком отдал нам. Судите, дескать, вы моя совесть, правда нечистая, как акварель, попавшая под дождь, но у меня и такой нет.
– Но бога нет. Люди – вот мозг и сердце вселенной. Да, вот еще. Когда я была в психбольнице у Магдалены, она жаловалась, что ты к ней не ходишь. И меня это возмущает. Как ты можешь забывать, что у тебя есть сестра? Почаще надо ее проведывать и приносить передачи. Там же кормят-то неважно. Нам с отцом не так-то просто ездить из Конотопа. Ну да ладно, пожурила я тебя, а теперь пойду отцу обед готовить.
– Мама, подожди. А ты хотела бы, чтоб бог все-таки был?
– Только добрый.
– Конечно, добрый. Хотела бы?
– Эх, Ваня! Да кто ж не хотел бы?! Я, честно тебе скажу, всю жизнь пыталась поверить в бога. Но – нет, не получается. Может быть, это особый талант – верить в мифы и сказки как в действительное. Да, наверное, это можно назвать талантом. У меня такого таланта нет, и с этим ничего уже не поделаешь. Ну да ладно, пойду обед готовить.
ГЛАВА 18
Гремел гром, и стеклянный дворец господа весь изнутри полыхал вспышками молний, резким белым светом озарявшими вишневые сады и запруженную людьми площадь перед дворцом. Кто бил лбом поклоны, кто неистово крестился, а кто бил поклоны и неистово крестился, кто-то стоял на коленях, и на всех лицах было одно и то же выражение: страх.
Над всей толпой, на ступеньках мраморной лестницы, ведущей к входу во дворец, возвышалась коренастая фигура Сидорова. На нем было черное монашеское облачение, поверх которого на шее висели огромных размеров крест, звезда Давида и полумесяц.
– Кайтесь, кайтесь! – в перерывах между ударами грома кричал в микрофон Сидоров и потрясал руками.
– Каемся, каемся! – гудела толпа.
– А теперь повторяйте за мной: Никто не приходит к богу без Сидорова! Нет бога без Сидорова!
– Нет бога без Сидорова! – гудела толпа.
По вишневой аллее по направлению к дворцу, поглядывая на толпу, шел Заратуштра и разговаривал по телефону.
– Ставь на темную лошадку, – говорил он.
– Темная Лошадка в бегах не участвует, – говорили ему. – Есть Победитель, есть Стремительный, есть Неудержимый, да много еще есть, но такой лошади, как Темная Лошадка, нет.
– Ты что, тупой? – возмущался Заратуштра. – Я имею в виду, ставь на того коня, который менее всех известен, но, по-видимому, не без потенциала.
– По-моему, лучше ставить на Победителя, он фаворит.
– На фаворита неинтересно, да и выигрыш будет минимален. Ставь на темную лошадку. Есть такая?
– Есть Толстозадый. Ничего о нем неизвестно, в первый раз участвует.
– Ну и кличка! Но он, надеюсь, на деле не толстозадый?
– На деле наоборот, поджарый. И выглядит бойцом. Но все равно я советую на Победителя. Так вернее.
– У тебя только выигрыш в голове, а как же сама игра? Как же азарт игры? И хватит уже меня уговаривать. Мое последнее слово: ставь на Толстозадого.
Заратуштра выключил телефон и очутился перед толпой, продраться через которую не представлялось возможным. Снова раздался голос Сидорова:
– Нет бога без Сидорова! – кричал он в микрофон.
– Что за чушь здесь происходит? – озадачился Заратуштра. – Какой еще Сидоров?
– Пророк, – отвечал ему какой-то мужчина в белом мусульманском одеянии. – Обещает спасти нас от божьего гнева.
– Бог не гневается, – сказал Заратуштра. – Он слишком мудр, чтобы гневаться.
Дворец снова озарился вспышками молний, и загромыхал гром.
– По-вашему, это не гнев? – возразил мужчина в мусульманской одежде.
– Молнии – это не гнев, молнии – это электричество.
– Тсс, – зашипели на говорящих, и они замолчали.
– А молиться надо так, – вещал Сидоров. – Сидоров, сущий на небесах, воссядь одесную господа, чтобы пришло царствие его, чтобы была воля его, яко на небеси, так и на земли. Чтоб хлеб наш насущный дал нам господь, чтобы простил нам долги наши, яко же и мы прощаем должникам нашим, чтобы не ввел нас во искушение и избавил нас от Ботиночкина.
– Да это заговор! – прошептал Заратуштра.
Мусульманин обернулся и подозрительно посмотрел на Заратуштру.
– Уж не ты ли пресловутый Ботиночкин? – спросил он.
– Я Сапожков, – сказал Заратуштра.
– Он, он, – поддержал подозревающего еще один. – Его козлиная борода! Бей его, ребята!
– Я Сапожков, – повторил Заратуштра и поспешил ретироваться.
Оказавшись на безопасном расстоянии, он свернул на какую-то тропинку, которая вывела его к поросшему травой и вишневыми деревьями бункеру с заржавленной железной дверью, на которой с трудом, но различалась надпись красной краской: «Антианнигиляционное убежище». Найдя над дверью заржавленный ключ, Ботиночкин открыл скрежещущую дверь, спустился по лестнице, прошел мимо многочисленных деревянных нар, открыл еще одну дверь и очутился в темном чулане, мрак которого едва разгонял желтый свет пыльной лампочки ватт в сорок. Чулан был полон разного рода старьем: допотопный велосипед с огромным передним колесом и крошечным задним, старые лыжи, заржавленные коньки, какие-то первобытные весы с гирями, искусственная елка и прочее, и прочее, что давно следовало бы сдать в музей или выбросить на помойку. Споткнувшись, Заратуштра чертыхнулся:
– Чертов Плюшкин, понабросал здесь!
– Я все слышу! – донесся до него трубный глас божий. – Только я не Плюшкин, потому что это материал для творчества.
– Да какое это может быть творчество из хлама! – крикнул Заратуштра.
– Современное творчество.
Пройдя через чулан, Заратуштра поднялся по ступенькам, открыл еще одну дверь и оказался в лаборатории. Господь сидел в золотом кресле и метал молнии в бассейн.
– Что вы делаете?! – крикнул Заратуштра.
– Да вот исследую, может ли благодаря электричеству возникнуть жизнь в первобытном бульоне. Не мешай.
– А вы знаете, что из-за ваших опытов с молниями на улице делается? – спросил Заратуштра.
– Ничего особенного там не делается, – сказал господь.
– Да это же заговор! Какой-то Сидоров собрал толпу и провозгласил себя пророком!
– Да черт с ним, с Сидоровым! Пусть себе забавляется! Я противник безоблачного счастья.
– Но он хочет меня, вашего советника, отстранить от власти!
– А тебя давно пора отстранить. Вот ты объясни мне, как так получилось, что ты на глазах бандитов передал Ивану такую крупную сумму? Чем ты думал?
– Было, каюсь… – согласился Заратуштра с этим упреком.
– И где ты был, когда эти же бандиты чуть его не убили? Опять в своем сумасшедшем доме? Там тебе что, медом намазано?
– Да. Медом намазано. Если бы вы знали, какие там интересные собеседники! Кроме того, мне известно, что второй самолетик исчез на территории сумасшедшего дома. А я как раз в нем лежу. Вот такое странное совпадение. Думаю – это все святой дух, и он ведет какую-то свою игру.
– И по-моему тоже, святой дух ведет какую-то свою игру. По-моему, он хочет нас запутать. Только зачем ему это? – проговорил господь.
– Игра. Если бы вы знали, какой захватывающей может быть игра!
– Даже в кошки-мышки? – спросил господь.
– Даже в кошки-мышки, – ответил Заратуштра.
– А как это, в кошки-мышки? Никогда не играл.
– Я вас научу.
ГЛАВА 19
Сундук и Китаец пили пиво в дешевой забегаловке.
– Вот сучка! Вот сучка гребаная! – Сундук, рослый круглолицый блондин лет двадцати пяти, трогал пальцами красную с синевой опухоль, начинающуюся у спинки носа и застилающую глаз так, что тот выглядел узкой щелочкой.
– Я бы, бля, плеснул ей в морду кислоты, – прихлебнув пива, сказал Китаец, узколицый тонкокостный парень со слегка азиатскими глазами и с татуировкой на тыльной стороне ладони сердца, пронзенного стрелой, и надписью: «Люблю тебя одну очень сильно».
– Стремно, Китаец. Можно самому облиться, – сказал Сундук.
– А может, ее вообще замочить? Жаль, что у нас нет ствола. Хотя, можно обойтись и без ствола. Если, бля, у нас будут бейсбольные биты, то никакое карате этой гребаной жидовке не поможет, – злобно произнес Китаец.
– Откуда ты, знаешь, что она жидовка? – спросил Сундук.
– Я, Сундук, их за версту узнаю.
– По мне – брюнетка да и все.
– Брюнетка брюнетке рознь. Я тоже, бля, почти брюнет. И потом, ее Герда зовут. Типично жидовское погоняло. Ну что, еще по пиву?
– Я пустой, – сказал Сундук. – Эх! Какой из-за этой сучки куш упустили!
– Замочить бы ее, гадину. И труп, бля, надежно заныкать. Когда трупа нет, мусора хрен нападут на след.
– Закопать что ли?
– Можно закопать, а можно утопить. Привязать, бля, что-нибудь тяжелое, например, бетонные блоки, у брата есть такие, что-то вроде больших кирпичей. Живьем, бля, утопить. Я возьму у брата фургон, возьму его права, ведь мы с ним, бля, почти на одно лицо. Да и электрошокер возьму.
– Стремно, Китаец, – сказал Сундук.
– Не ссы, Сундук. Если все как следует обсосать, все пройдет как по маслу.
– Все равно стремно, – сказал Сундук.
– Но жить, бля, тоже стремно. В любую минуту в Землю может врезаться метеорит, и все мы, бля, вымрем как динозавры. Так что давай, бля, спешить жить, – он усмехнулся. – А ведь мы сейчас что-то мудрое, что-то вечное, что-то, бля, философское выдали. «Спешите жить» – так может сказать только философ.
ГЛАВА 20
Иван сидел за компьютером. На экране в качестве заголовка было написано: «Тоска».
– Черт! – выругался он, вставая. – Разве годится такое название? Разве речь в романе будет только о ней? Черт! Черт! Ну? Где твоя фантазия?
Он подошел к окну.
Открывавшийся вид к лирике не располагал. Серое, без окон здание Государственного архива на две трети скрывало площадь Первого Великого Гетмана. Была видна как бы осевшая, грубая гранитная фигура гетмана, но постамента, к которому возлагались цветы, видно уже не было.
– Авантюристка, – сказал Иван, глядя в окно. – А может, и не авантюристка. Может, герой. Ведь задумала она героическое. Говорят, что нет героев без зрителей. Оказывается, что есть.
Он вернулся к письменному столу, взял и включил смартфон. На экране возникла Герда. Задорно подбоченившаяся.
– Красавица, не отнимешь. Но нельзя ее пускать себе в сердце. Разве я не говорил себе, что это великая мудрость никого не любить? Разве не убедил себя в этом? А может, я просто трус? Обыкновенный трус? Может, я как та кошка, которая обожглась на горячей печи, а теперь боится сесть даже на холодную?
Он снова сел за компьютер, убрал название «Тоска», написал «Обыкновенный трус», снова встал и заходил по комнате.
– Только что это я только одного себя уничижаю? Разве я один такой? Не один. Поэтому тут надо как в ботанике. Как, например, «хвощ полевой обыкновенный». То есть не «человек разумный», а «трус обыкновенный». Ведь не только я прохожу мимо, когда сильный обижает слабого. Многие проходят мимо, предпочитая не связываться, многие трусы обыкновенные. Но это, наверное, не о Герде. Герда, наверное, не прошла бы.
Он снова взял телефон и набрал номер.
– Алло? – послышалось в трубке.
– Это ты, Герда?
– Я.
– Мы не могли бы сегодня встретиться?
– Я сейчас на работе.
– Я знаю. Давай я подойду к закрытию?
Послышался легкий смешок.
– Ты чему смеешься?
– Тому, что ты не играешь.
– В каком смысле?
– Всем известно, что, чтобы в себя влюбить, нужно после знакомства не давать о себе знать четыре дня. Нужно дать волю воображению жертвы. Нужно подождать. А ты не ждешь. Значит, ты не играешь чужими чувствами.
– Это хорошо или плохо?
– По мне – хорошо. Я люблю людей, которые не играют чужими чувствами. Я люблю искренних людей.
– Ну, не такой уж я искренний.
– В меру искренних. Всё – в меру.
Когда Иван подошел к бару, за стеклянной дверью уже висела табличка «закрыто». Он постучал, и Герда почти тут же открыла.
– Привет, – сказал Иван. – Прости, что без цветов, но уже поздно, все закрыто.
– Ничего. Я и без цветов рада тебя видеть.
– Давай я помогу тебе убраться?
– Уже убралась. Люда разрешила пораньше закрыться.
– Может, я тороплю события, но очень хочется, чтобы вы поскорее сошлись поближе, – улыбалась Люда, одевая куртку. – Жаль, что нам в разные стороны. А может, и не жаль.
Все трое вышли на улицу.
– А ты уже не в воду опущенный! – весело сказала Люда. – Я же говорила, что клин клином вышибают, – она похлопала Ивана по плечу и зацокала в противоположную сторону.
– Смотри, какая она молодец! – сказала Герда. – Совсем не комплексует по поводу своей полноты. Часто бывает совсем не так. Я думаю, что она, несмотря на полноту, привлекательна для мужчин, а?
– Привлекательная, пожалуй. Она, хоть и полная, но милая. Как-то по-особому милая. А, кроме того, она веселая, а веселость красит человека, даже если он урод. А что насчет комплексов, то их у разумного человека быть не должно, все люди расположены по горизонтали, – сказал Иван. – Ты сама говорила.
– Не все. Есть исключения. Есть сверхчеловеки.
– Ты знаешь хоть одного?
– Знаю. Это я.
– Ты не в меру откровенна.
– А может, я сказала так в шутку.
– Мне почему-то кажется, что не в шутку.
– Хорошо, не в шутку, ну и что?
– Значит, ты ради великой цели пожертвуешь жизнью невинного дитяти? Значит, цель оправдывает средства? По-моему, Ницше на тебя пагубно повлиял.
– Я еще до того как читала Ницше и Достоевского над всем этим задумывалась. Подумать только, больше тысячи лет назад был задан вопрос о цене слезинки невинного ребенка, а ответа так и нет.
– Ответ есть, – возразил Иван.
– Для меня нет ответа. Я колеблюсь.
– Раз ты колеблешься, значит, ты не сверхчеловек.
– Да что это мы с тобой опять за старое? Давай не философствовать. Посмотри, какой сегодня чудесный теплый вечер! Так что лучше поговорим о погоде. Скажи: а погоды какие нынче чудные стоят!
– А погоды какие нынче чудные стоят, – повторил Иван.
– Ну вот. Совсем другое дело! Или это: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно каким-то цветом где-то там затрепетало. Ну? Повторяй!
– Не буду.
– Почему?
– Не смешно.
– А, по-моему, – смешно.
– У нас разница в возрасте. Мне тридцать три. В таком возрасте люди уже становятся менее смешливыми.
– Не пугай меня своим возрастом. Я не боюсь.
– И часто серьезнее относятся к отношениям между людьми.
– Ты немножко старомоден. Ты мне мою бабушку напоминаешь.
– Если я напоминаю бабушку, значит, я не немножко старомоден. Но какой уж есть.
– Не переживай. Мне нравится. Поэтому давай дружить.
– Ты это серьезно?
– Вполне. Дружба может быть вечной, а любовь – почти никогда. Если, конечно, она не становится любовью-дружбой через черточку.
– Я так и знал, что тебе не подхожу, – помрачнел почему-то Иван.
– Что? Испугался? Да пошутила я, пошутила!
– Я, кажется, понял. Ты обыкновенная кокетка.
– Я не обыкновенная кокетка. В глубине души я всегда серьезна. Я умею любить. Я любила.
– Своего мужа?
– Да. Но он оказался ветреным, мягко выражаясь.
– Да, такого человека трудно разлюбить. По опыту знаю. Он тебя бросил или ты его?
– Я его.
– Ты очень сильная.
– Я ведь сверхчеловек. Я не имею права на слабость.
– Если приходится говорить себе, что не имеешь права на слабость, значит ты не сверхчеловек, а просто сильный человек. Сверхчеловек не имеет слабостей. Он как робот. В моем представлении в нем как бы программа заложена. Если, конечно, он вообще существует в природе. И, ты знаешь, мне как-то странно, что ты так ценишь Ницше. Я бы на твоем месте его не любил, ведь он был антисемитом.
– Ты путаешь Ницше с Гитлером. Ницше наоборот говорил о немцах как о чувственных любителях поохотиться и выпить пивка, и что им далеко до филигранной утонченности раввинского ума. Разве антисемит так скажет? Да и нападал он не на иудаизм, а на христианство. Иудаизм же он превозносил.
– Ну – не знаю, раз так, – сказал Иван. – Я Ницше не читал. Я о нем только понаслышке, по цитатам да выдержкам. Сознаюсь, в Ницше я невежда.
– Все мы невежды, только каждый в разном и в разной степени.
– Хочешь меня подбодрить? Дескать, не переживай, Иван, не такой уж ты дурак?
– Нет, я вполне искренне. А даже если и так, если чтобы подбодрить, что тут плохого?
– Ты не сверхчеловек, потому что чувствуешь людей. Сверхчеловеку человеческое было бы чуждо. Разве не так?
– Дай подумать.
– Некоторое время шли молча. Иван все поглядывал на сосредоточенную Герду, потом зашел вперед, так что оба очутились лицом к лицу, обнял ее, но тут же разжал объятия.
– Что это было? – спросила Герда.
– Это была благодарность за то, что ты позавчера позволила себя проводить. Я бы на твоем месте не хотел бы быть попутчиком человека с таким жалким лицом, какое было у меня позавчера.
– Я тебя понимала. Я, когда развелась, тоже ходила невеселая. Кроме того, я знала тебя по юмористическим рассказам и афоризмам. По-моему, они, а не постное лицо, твоя суть.
– Думаешь, у меня есть будущее?
– Думаю.
Иван хотел отступить в сторону и чуть не упал.
– Черт! Шнурок развязался! Ты иди, я тебя догоню. Я быстро.
Герда вступила в темноту подворотни, и в этой темноте проявились две темные мужские фигуры с бейсбольными битами в руках. Один из них замахнулся битой, но Герда нырнула под удар, взвалила нападавшего себе на спину и сбросила на асфальт. Но довести прием до конца и заняться вторым, пониже ростом и более юрким, у Берты не хватило времени. Тот успел так основательно приложиться Герде по почке, что она вскрикнула. Последнее, что она запомнила, была резкая парализующая боль, но уже не от почки, отчего-то другого, крик: «давай хлороформ!», потом резкий специфический запах – и все. Тьма.
Иван бросился на крики, но, получив удар битой в солнечное сплетение, согнулся, и тут же его тоже парализовало током. Последнее, что он почувствовал, был запах хлороформа.
ГЛАВА 21
– Да понимаю я христианство, понимаю! – пылко восклицал Озабоченный. – Я даже готов его ну почти что всей душой принять! Мне нравится и «Возлюби ближнего, как самого себя», и то, что бог нас любит. Я одного не понимаю, как можно игнорировать инстинкт продолжения рода! Как можно отрицать плоть! Ведь это все равно, что учить крокодила хорошим манерам! Плоть, как и крокодил, без мозгов!
– Современное христианство уже не отрицает плоть. Оно сильно изменилось за три тысячи лет, с того времени, когда со дня на день ожидалось второе пришествие. Именно потому, что со дня на день ожидалось второе пришествие, чтобы, якобы встретить его безгрешными, отрицалась плоть, – заметил Философ. – Да, Заратуштра?
– Верно, – Заратуштра оторвал глаза от газеты. – Но я вот что скажу: тебя, Озабоченный, определенно надо познакомить с Сонечкой Мармеладовой.
– Называть нашу Магдаленку Сонечкой Мармеладовой – это кощунство!– воскликнул Философ. – Это все равно, что называть Христа бабником. Сонечка Мармеладова не была шлюхой, да еще такой отъявленной. Сонечка Мармеладова кормила семью, потому что ее отец, алкоголик, все пропивал. Сонечка была святой. А наша Магдаленка занимается этим из-за ненасытности.
– А это в христианстве, да и в любой религии, – грех, – сказал Заратуштра.
– Я понимаю, что это грех, – согласился Озабоченный. – Но я не понимаю, почему именно это считается грехом. Что тут плохого, если задуматься? Что плохого, если человек доставляет себе и другим удовольствие? Почему в Древнем Израиле побивали камнями за прелюбодеяние, но не побивали за проституцию? Значит, нужна была и им проституция? Значит, не такой уж это грех? Ты подумай над этим, Философ.
– Замолчи, ты говоришь такие вещи, за которые тебя так и хочется сжечь на костре! – воскликнул Философ.
– Ты, между прочим, претендуешь называться философом, вот и объясняй, а не сжигай на костре, – сказал Озабоченный.
– Не знаю, как объяснить. Знаю только, что я ее боюсь, – сказал Философ. – Меня, например, как хотела взять? Вытащила из кармана презерватив и манит меня им, манит.
– Ну а ты? – спросил Озабоченный.
– Да я просто испугался!
– Я бы не испугался! – сказал Озабоченный.
– Потому я тебе, величайшему герою, и говорю: запишись у медсестры ходить за едой, – сказал Заратуштра.
– А если она кого-нибудь другого выберет? Я и прыщавый, и горбатый. Урод я.
– А ты тоже возьми презерватив и помани ее, – сказал Художник.
– Не говорите такие уродливые вещи, коробит! – крикнул Давид Давидович.
– Такова проза жизни. Она и уродлива тоже, это в стихах все красиво. Хотя в принципе – то же самое, – сказал Заратуштра и процитировал:
«Я ошибся, кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну – так лучше давай с тобой плащ
В ширину под собой расстелем»
Так говорит Пастернак. Не коробит?
– От любви не коробит, – сказал Философ.
– А иного, может быть, и от Пастернака коробит, – сказал Заратуштра. – Для ханжи, может быть, и «свеча горела на столе, свеча горела» – порнография, и ее нужно запретить. На деле же в мире мало вещей, которые категорически нужно запретить. Ну, разве что детскую порнографию. Вы отстали от жизни. Я это вам говорю, Философу и Давид Давидовичу. Доказано, что мир больше выигрывает от позволения, чем от запрещения. Пример тому – Единый Англосаксонский Союз. В нем почти все позволено, и он процветает. Англосаксонский Союз и есть пока что мера всех вещей. Да и Европа тоже.
– Мера всех вещей – Бог, а не Америка или Европа, – сказал Философ. – Только я его еще не открыл.
– Нет, пожалуй, не Америка мера всех вещей, а человеческая совокупность, – поправился Заратуштра. – Только нельзя ждать от нее, чтобы она сразу все отмеряла, она отмеряет постепенно. Тезис – антитезис – синтез.
– Санитар! – донесся старческий женский крик. – Ты почему позволяешь этим идиотам шляться по коридору!? Ну-ка загони их в палаты!
– А вот еще одна уродливая сторона жизни, – заметил Заратуштра.
– И это психиатр, долженствующий быть целителем душ! – воскликнул Озабоченный.
– Ничего, ей, наверное, уже скоро на пенсию, – сказал Давид Давидович.
– Да она уже на пенсии, но все же никак не может не калечить людей! – еще более возвысил голос Озабоченный.
– При коммунизме такого не было!
– Ради Бога, Давид Давидыч, не надо про коммунизм, а то опять поссоримся! – просительно, с надрывом произнес Озабоченный.
– А что такое чванство? – спросил Петя. – Вот тут, в газете, написано слово «чванство».
– Это, Петя, высокомерие, с которым чиновники относятся к людям в капиталистических странах, – пояснил Давид Давидович.
– Ну вот, опять! – воскликнул Озабоченный.
– Давно бы пора тебе смириться, – сказал Заратуштра. – Тем более что Давид Давидыч – хороший человек. А ты сам говорил, что главное – чтобы человек был хорошим, а не его политические воззрения.
– Обход, обход! – донеслось из коридора. – Все по палатам!
– А у тебя кто лечащий врач? – спросил Философ Петю Нирыбу.
– Не знаю, как ее зовут. Та, что кричала: «загони идиотов в палаты»!
– Маргарита Васильевна, – сказал Философ. – Не повезло тебе. Галоперидол колют?
– Не знаю.
– А аминазин?
– Тоже не знаю.
– Хорошо, что у нас Сергей Викторович врач, – сказал Озабоченный. – А то бы эта дура всем нам либо галоперидол, либо аминазин, либо все вместе, коктейль. А впрочем, лишь бы корректор давали. Он снимает побочные действия. Если бы ему давали галоперидол и аминазин, а корректор не давали, он бы уже на стену лез, – сказал Озабоченный.
– Не дают ему ни галоперидол, ни аминазин, я видел, – сказал Художник.
– Редкость для этой суки, – выругался Озабоченный.
– Не ругайте врачей, – почему-то прошептал Леня-барабанщик. – Они все слышат. Видите эти микрофоны на потолке? Через них они все и слышат.
– Эх ты! – сказал Озабоченный. – Да что там! Барабанщик – он и есть барабанщик! Какие микрофоны! Это пожарная сигнализация!
– А может, и вправду, микрофоны? – предположил Философ. – Еще с советских времен остались, чтобы подслушивать разговоры диссидентов.
– И ты туда же, Философ? Ну, ты меня удивляешь! – сказал Озабоченный.
– А откуда же тогда Маргарита Васильевна знает все наши прозвища и обращается не по фамилии, а по прозвищу. Значит, где-то есть микрофоны? Просто они спрятаны. В стены замурованы, наверное, – предположил Философ.
ГЛАВА 22
По темной, уже пустынной в это время улице ехал белый фургон.
– Как ты думаешь, мы хорошо их связали, не развяжутся? – тревожился Сундук.
– Это, бля, от веревок можно освободиться, а от липкой ленты – никогда, – сказал сидевший за рулем Китаец.
– Ну, может, все же как-нибудь развяжутся, – продолжал тревожиться Сундук.
– Стремный ты какой-то, – сказал Китаец.
– А тебе не стремно? А если, бля, патруль нас остановит? Рискуем мы, Сеня! Ох как рискуем!
– Кто не рискует…. Сам знаешь.
Позади послышался вой полицейской сирены.
– Ну вот ты и накаркал, придурок! Так, я спокоен, я совершенно спокоен. Спокойненько себе еду на дачу, – бормотал Китаец, тормозя.
Позади остановилась патрульная машина, из нее вышел полицейский и подошел со стороны водителя.
– Ваши права.
Китаец протянул права брата. Полицейский посмотрел на права, потом на Китайца, посветил фонариком на Сундука и приказал открыть фургон.
– Да там ничего нет, – стараясь не выдать нервного напряжения, сказал Китаец. – Так, всякое барахло для дачи.
– Откройте фургон, – повторил полицейский.
– Да там ничего такого нет, – снова сказал Китаец.
– Откройте фургон, – не отставал полицейский.
Китаец, от страха испытывая внутреннюю дрожь, вылез из машины и вместе с полицейским подошел к задней двери машины. Но только он взялся за ручку двери, как мимо пронесся белый БМВ.
– Белый БМВ! – закричал из патрульной машины другой полицейский. – Нам ориентировку дали на белый БМВ, а не на Мерседес!
Полицейский быстро отдал Китайцу права, вернулся к патрульной машине, и скоро она помчалась следом за белым БМВ.
– Уф… пронесло, – выдохнул Китаец, садясь в машину.
– Пронесло, – вытирая тыльной стороной ладони пот со лба, сказал Сундук. – А что было бы, если бы они стали стучать?
– Да спят они еще!
– А долго хлороформ держит?
– Точно не знаю, бля, но долго, раз операции под ним проводят.
Иван, связанный по рукам и ногам липкой лентой и с ней же на рту, пришел в себя и огляделся. В жиденьком свете лампы было видно, что рядом сидит Заратуштра. Справа от Ивана, тоже связанная, лежала Герда.
– А прохладный в этом году май выдался, – сказал Заратуштра.
– Ммы, ммы… – промычал Иван сквозь липкую ленту.
– В прошлом году в это время уже тепло было, уже купались, – продолжал измываться Заратуштра.
– Ммы, ммы… – снова промычал Иван.
– А впрочем, может быть, я что-то путаю. Может, это было в Монте-Карло. Ну что же вы молчите? Я из кожи вон лезу, пытаюсь вести светскую беседу по-английски, то есть ни о чем, чтобы никого не обидеть, а он – ни гугу. Где ваша вежливость? Спросили бы: как вам сегодняшняя погода? Неужели это так трудно?
– Ммы. Ммы… – снова промычал Иван.
– Ах, простите. Как я сразу не понял, что вам говорить затруднительно.
Он нагнулся и сорвал липкую ленту с губ Ивана.
– Помогите развязать руки, – сказал Иван. – Если вы только мне не враг.
– Я вам не враг, – разрезав перочинным ножиком ленту, обмотанную вокруг запястий Ивана, сказал Заратуштра. – Вы сами себе враг. Когда один клин вышибаешь другим клином, все равно остаешься с клином. Нет, никогда вы не станете мудрецом.
Он отдал ножик Ивану.
Тот сорвал липкую ленту со рта Герды и разрезал ленту на запястьях. Герда зашевелилась.
– Где моя сумочка? – спросила она.
– Наверное, под тобой, раз у тебя ее ремешок на плече. А где Ботиночкин?
– Какой Ботиночкин?
– Наверное, умудрился выскочить через боковую дверь… – сказал Иван.
– Какой Ботиночкин? – снова спросила Герда.
– Меценат.
ГЛАВА 23
Через некоторое время Китаец свернул на грунтовую дорогу, ведущую к реке, и чуть не доезжая до обрыва, остановился. Друзья вышли и подошли к задней двери фургона.
– Вовремя нам это козел подвернулся. Теперь, когда у нас есть его паспорт с адресом и ключи от квартиры, будем, надеяться, что те деньги у него дома, – открывая двери, проговорил Китаец.
В свете луны и жиденьком свете лампы, освещавшей внутренность фургона, было видно, что, хотя ноги пленников были стянуты липкой лентой, руки и рты их оказались свободны.
– Ты смотри, бля, – удивился Китаец, посветив еще и мощным фонарем. – Как им это удалось?
– Отпустите нас, пожалуйста! – жалобно заговорила Герда. – Ну пожалуйста! Мы никому не скажем! Ну пожалуйста!
– Нет, коза драная. У нас, бля, другие планы. Мы тебя сначала изнасилуем, а потом утопим обоих в реке. Тут вас не найдут, тут больше пятнадцати метров глубина. Тяни ее сюда, Сундук.
– Ну – это все вряд ли! – уже весело проговорила Герда, резко выдернула из-за спины револьвер и сделала два выстрела. Друзья застонали и, схватившись за животы, повалились на землю.
– Давай, быстрее освобождай мне ноги! – приказала Герда Ивану.
Пока Иван освобождал Герде ноги, а бандиты, обливаясь кровью, корчились от боли на земле, Герда ядовито проговаривала:
– Поторопились вы на радостях, поторопились. Спешка фраеров сгубила. Не потрудились ко мне в сумочку заглянуть.
Она вылезла из фургона, встала возле поверженных врагов и пнула ногой Китайцу в голову.
– Не бей их, – сказал Иван. – Это не по-сверхчеловечески.
Герда посерьезнела.
– А и впрямь не по-сверхчеловечески, – сказала она. – Я сама себя унижаю. Прочь эмоции, если ты сверхчеловек! Хочешь пристрелить кого-нибудь из этих гадов? – она протянула Ивану револьвер.
– Нет, Герда.
– А мне очень хочется.
Она наклонилась, хладнокровно выстрелила каждому в голову и положила револьвер в сумочку.
– Теперь надо их обыскать и забрать телефоны, чтобы не было сигнала. Нет, раздеться надо.
Зазвонил смартфон, и Герда вынула его из сумочки.
– Ничего не случилось, – сказала она. – Просто сегодня я переночую у Ивана. Не надо нравоучений…. Потом поговорим.
– А теперь давай разденемся, – сказала Герда, пряча смартфон в сумочку.
– Зачем? – спросил Иван.
– Чтобы не испачкаться их кровью, когда будем их в фургон загружать.
– Ты хочешь утопить их вместе с машиной? Я к тому, что там два бетонных блока есть в багажнике.
– Если с машиной, то мы не оставим никаких следов.
– А и вправду, – согласился Иван.
Оба стали раздеваться. И, к удивлению Ивана, Герда сняла и трусики.
– И ты снимай, – сказала она. – Или стесняешься? Если стесняешься, то представь себе, что ты нудист.
– Сейчас не до стеснительности, – сказал Иван и, помедлив, начал все же снимать трусы.
Герда тем временем подобрала фонарь и забрала у мертвых смартфоны. Смартфоны она раскурочила перочинным ножиком, вынула аккумуляторы и бросила все в воду.
Худенького Сеню удалось затащить в машину сравнительно легко, но с более крупным Гошей пришлось повозиться. Наконец справились и с ним, и Герда села за руль. Иван, чтобы смыть кровь, спустился к воде правее от обрыва, где берег был покатый, а Герда, развернувшись, отъехала от реки метров на сто, снова развернулась, и, набирая все большую и большую скорость, помчалась к обрыву. Вот колеса оторвались от земли, машина повисла над темной гладью реки и, пролетев немного, рухнула в воду.
– Быстрее из машины! Быстрее! – закричал Иван, что было совсем лишним. Машина не погружалась так быстро, чтобы создать Герде какие-то трудности со спасением. Машина погружалась относительно медленно. Так, что Герда смогла выбраться из нее задолго до полного погружения.
– Ты помылся? – спросила она, выходя из воды.
– Вроде все смыл.
– Так одевайся уже. Простынешь, – одевая трусики, сказала Герда.
Оба оделись. Зуб не попадал на зуб, и пришлось основательно подвигаться, чтобы унять дрожь.
– Получай фашист гранату! – энергично похлопывая себя по плечам, весело говорила Герда. – Как мы их, а?
– Мы убили, – сказал Иван.
– Мы не людей убили, мы убили мерзавцев. Неужели тебе их жалко?
– Нет, не жалко. Но все же мы убили.
– Не мудрствуй и не морализируй. Мы не могли иначе.
– Да, пожалуй.
– Я даже испытала наслаждение. И одновременно чувство выполненного долга. Но больше – наслаждения.
– Даже так? – спросил Иван.
– Даже так. И мне не стыдно. Ну все, пошли вон туда. Там, где шалаш. Надо как-то скоротать время до утра.
– А вдруг там кто-то есть в шалаше? – сказал Иван на ходу. – Тогда и их тоже тебе придется убить.
– Опять морализируешь?
– Забыл, что ты сверхчеловек, а значит, твоя жизнь ценнее, чем жизнь кого бы то ни было.
– Ты серьезно, или иронизируешь?
– Я задаю себе серьезный вопрос: в самом ли деле твоя жизнь ценнее, чем жизнь кого бы то ни было?
– Позволь мне не отвечать, – сказала Герда и, подойдя к шалашу, добавила: – Слава богу, он старый. Видишь, хвоя порыжела? – светя фонарем, сказала Герда, подходя к шалашу и заглядывая в него. Хвоя, которой он был устлан изнутри, тоже была явно прошлогодняя.
– Скорее всего, здесь давно уже никого не было.
– Слава богу, – сказал Иван и вдруг закричал: – Черт! Черт!
– Что такое? – встревожилась Герда.
– У них остался мой паспорт и ключи от квартиры!
– Их в карманах не было.
– Наверное, в бардачке!
Иван повернул в обратную сторону и на ходу снял куртку.
– Стой, – сказала Герда. – Тебе нырять нельзя. У тебя только позавчера было сотрясение мозга. Я нырну. Лучше возьми фонарь и свети мне, когда я буду нырять.
– Ты и так долго была в воде. Ты можешь переохладиться.
– Я закаленная. Я даже была моржом, – сказала Герда, быстро скинула с себя всю одежду и вошла в реку. Ее долго не было, и Иван уже начал волноваться, но тут Герда вынырнула.
– Есть, есть! – закричала она, подплыла, выкарабкалась на берег и протянула Ивану паспорт и ключ. – Ну? Разве я не сверхчеловек? – сказала она, стуча зубами и одеваясь.
– Не знаю. Знаю только, что ты настоящий герой.
Они пошли к шалашу и залезли в него.
– Не очень-то мягко будет спать, – сказала Герда, присаживаясь на бурую хвою.
– Ты будешь спать? – спросил Иван
– Если холод позволит. А что делать? Автобусы еще не ходят, – она легла. – И ты ложись. И прижмись ко мне покрепче, согреться надо. Только без свободомыслия. Мы ведь не собираемся заводить детей? Только чтобы согреться.
ГЛАВА 24
– Ну, как наши дела? – спросил, входя в палату, врач – плотный, кругленький, чуть седоватый мужчина лет пятидесяти с веселыми маленькими глазками. – Начнем с вас, Олег Николаевич. Тоски нет?
– Вообще-то я чувствую себя хорошо, но кое-что действительно тревожит, – ответил Философ. – Вы заказали табличку «Кафедра ревнителей религиозной философии»?
– Еще не заказал.
– Поспешите заказать, чтобы, когда к нам приедут иностранные делегации с Запада перенимать опыт, было наглядно ясно, что мы здесь дурака не валяем, что у нас здесь кафедра. Да и вам какой почет будет на Западе, что вы все-таки осмелились на такое неслыханное вольнодумство, как религиозно-философская кафедра при таких обстоятельствах. Вы меня понимаете?
– Я вас прекрасно понимаю, Олег Николаевич. Но и вы меня тоже поймите. Задолго до того как начнут приезжать иностранные делегации, которые, может быть, меня и вас поймут, потому что Запад есть Запад, нас могут посетить другие, назовем их тоже условно делегациями, которые нас не поймут, потому что дикость есть дикость. Вы меня понимаете? Так что философствуйте сколько угодно, но табличку я позволить не могу. С моей стороны это выглядело бы даже неким издевательством, не знаю, поймете ли вы. Да, а почему «религиозная философия»? Вы же не верите в бога?
– Я не верю в библейского бога, он ложный, потому что его творили одни невежественные люди для других невежественных людей.
– Отчего вы так сурово, в библии много мудрых и добрых истин.
– Добрые и мудрые истины, конечно, есть. Науки нет. Сплошные мифы. Мой же бог, бог образованного человека для другого образованного человека. И мой бог будет совершенно определенным, моя библия не будет туманной и противоречивой, не потребует истолкования, оправдания, не будет разных трактовок, а потому все другие религии постепенно исчезнут, даже все секты исчезнут, и в мире будет единая религия, а меня назовут ее пророком.
– Но ведь ваш бог, пусть он даже не из сказки или не из легенды, все равно будет всего лишь умозрителен?
– Но согласитесь, Сергей Викторович, и атом вначале был умозрителен, но потом, с развитием науки, эта умозрительность подтверждалась опытом, исследовалась, снова подтверждалась опытом, и теперь мы совершенно уверены, что атом именно такой, четкий и ясный: внутри – ядро из протонов и нейтронов, а вокруг вращаются электроны. И мой бог будет таким же четким и ясным, как атом.
– Ну что ж, желаю вам умоузреть нового бога, Олег Николаевич. Ну а вы как, Максименко?
– Задумал написать новый «Черный квадрат». Сейчас усиленно над ним размышляю, чтобы не подумали, что я написал «Черный квадрат» только потому, что поленился думать.
– Если хотите знать мнение просто человека, то «Черный квадрат» – это отрицание живописи как таковой, а если хотите знать мнение психиатра, то «Черный квадрат» – это настроение Малевича в определенный жизненный момент. Скажем прямо, паскудное было у него настроение. А может быть, и прав Олдос Хаксли, что в современном искусстве так боятся сказать банальность, что, либо ничего не говорят, либо говорят чушь. И все-таки, раз вы поклонник современного искусства, я вам советую, если уж писать квадрат, то писать его голубым или оранжевым. И даже не советую, а, скажем, прописываю, как врач, что-нибудь повеселее. Не черное. Напишите, например, восходящее оранжевое солнце. Напишите то, что бы радовало людей. Не черное.
Сергей Викторович повернулся к Давиду Давидовичу. – А теперь вы, Давид Давидович. Вы как?
– Плохо мне, потому что плохо пролетариату.
– Ничего, не сразу Хитропупинск строился. Да и не только пролетариату плохо, интеллигенции тоже не сладко приходится. Будем верить в лучшее.
– Я верю в лучшее.
– Ну и слава богу. Теперь… – он пристально, с прищуром посмотрел на Заратуштру.
– Собака бывает кусачей! Так говорил Заратуштра, – сказал Заратуштра.
– А вот вас я, Ботиночкин, не совсем понимаю. Бессонницу мы вылечили, а остальное…. Нейробиология у вас в норме, анализы на шизофрению – тоже. Томография – тоже ничего не дала. Что же с вами? Почему вы не хотите выписываться?
– Если хочешь быть здоров – позабудь про докторов! Так говорил Заратуштра, – сказал Заратуштра.
– А вот это вы удачно сказали. Похоже, вам действительно скоро придется о нас навсегда забыть. Хоть вы и говорите, что вы не Ботиночкин, а пророк Заратуштра, я у вас никакой патологии не нахожу. Думаю, что и консилиум тоже не найдет. Вы извините, Ботиночкин Ботинок Ботинович, но, похоже, что вы косите. Вот только зачем? На одну пенсию вы не проживете, а на работу с таким диагнозом не устроитесь.
– Только от жизни собачьей, – сказал Заратуштра.
– Жизнь у нас у всех собачья. Но жить – все равно надо.
– А как же моя фобия? – спросил Заратуштра.
– Ах да, у вас же фобия… Вы слишком боитесь метеоритов и грозы. Но и тут я боюсь, что вы косите. Ни разу не слышал, чтобы метеорит убил человека.
– А молния? Меня может убить молния. Или падающий самолет. По-вашему, если меня начинает трясти, когда я выхожу на улицу, то это норма?
– Ну – ладно. Поверю вам, хоть и не верится. Походите пока к психотерапевту. Полечитесь. Ну а вы, Николай Федорович? Выпить не тянет?
– Не тянет, – твердо сказал Озабоченный.
– Вы – эпилептик, поэтому вам даже самую малость нельзя, иначе в какой-то момент все начнется снова.
Сергей Викторович посмотрел на Леню-барабанщика.
– А теперь Леня, – сказал он. – Как ты себя чувствуешь?
– Я воодушевлен! Я буду маршировать в первых рядах!
– Где маршировать?
– На парадах!
– На каких еще парадах?
– На парадах в Небесном Хитропупинске.
– Слышал я о Небесном Хитропупинске, – Сергей Викторович укоризненно посмотрел на Давида Давидовича. – Эх, Давид Давидович! Я же просил вас, подумайте, пораскиньте мозгами. Борьба с болезнью зависит и от самого больного, а не только от лекарств. Это и самостоятельное исключение из своего сознания нелогичного. Небесный Хитропупинск – это крайне нелогично, Давид Давидович.
– Это потому кажется вам нелогично, что вы отступили от заветов марксизма–ленинизма. Я тоже одно время, каюсь, под влиянием пропаганды, отступил от заветов марксизма-ленинизма, И знаете, чем это кончилось? Меня ударило током!
– И я верю в Небесный Хитропупинск, – сказал Гороховый Суп. – Потому что там не только гороховый суп, но и мясо, и копченая колбаса, и пирожные, и мороженые. Жаль, что вы не можете прописать мне копченую колбасу или пирожное.
– А ты горбушку черного хлеба чесноком натри – и будет тебе как копченая колбаса. Я дома так делаю, – посоветовал Леня-барабанщик.
– Дурацкие какие-то у тебя советы! Горбушка – это совсем не то. Эх, колбасы бы!
– Пойдем со мной, – сказал Сергей Викторович. – У меня есть бутерброд с колбасой, правда, с докторской, но я ведь доктор, мне, наверное, и положено есть докторскую.
– Не хочу вас как будто объедать. Но с другой стороны вы все-таки человек количественный, а я человек качественный, а количественные люди должны служить людям качественным, давать им котлеты и колбасу.
– Не давайте ему ничего, Сергей Викторович! Он вконец обнаглел! – сказал Озабоченный.
– Это не наглость, это святая простота. Пойдем, пойдем.
– Они вам скоро на шею сядут, – шепнула в дверях медсестра.
– За двадцать лет еще никто так и не сел, – возразил врач.
Все трое вышли из палаты.
– А кто такой Эпикур? – спросил Петя Нирыба, держа в руке смартфон. – Тут написано: «как Эпикур».
– Это такой древнегреческий философ, – ответил Озабоченный. – Кстати, об Эпикуре, а в связи с ним и о Магдаленке. Уж больно меня эта тема занимает. Ведь можно предположить, что, раз Магдаленка, как истинный эпикуреец, делает это ради собственного удовольствия, попутно доставляя удовольствие другим, то она – это я философствую – достаточно нравственна с эпикурейской точки зрения.
– Это не эпикурейская точка зрения, – сказал Философ. – Это может быть точкой зрения другого философа. Был такой, Аристипп. Именно он выше всего ценил плотские удовольствия, а Эпикур выше всего ценил дружбу. Ты почему-то пытаешься эту грешницу оправдать.
– Я теоретизирую. Ведь не проститутка же она. Была бы проститутка, имела бы выгоду, тогда, может быть, совсем другое дело.
– Пусть теоретизирует. Теоретизируй, Озабоченный, – сказал Художник. – Мне очень интересно. А вдруг дофилософствуемся до того, что окажется, что она просто святая. Вдруг она как второй Христос, только Христос любил людей духовно безвозмездно, а она физически безвозмездно. Вот сказал, и сам себе удивляюсь, ну не чушь ли? Философия ли это или уже дурдом?
– Не дурдом. Философия, – сказал Озабоченный.
– Да она обыкновенная шлюха! О ней и говорить не стоит! – воскликнул Философ.
– Шлюхи нужны обществу, – сказал Заратуштра. – Шлюхи – это пример того, как добро побеждает мораль.
– Дерьмо все это! – воскликнул Давид Давидович. – Уж насколько я терпеливый, но вы, двое из ларца, со своим философствованием и мне уже надоели. Больная она на передок и все тут! Какая тут философия!
– Успокойся, Давид Давидыч, – мягко сказал Заратуштра. – Ну хочешь, мы с тобой коммунистическую песню споем про вождя мирового пролетариата? «Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной…»
– Не трожь святое имя Ленина своим грязным языком!
– И вправду, здорово обиделся… – огорчился Заратуштра. – Вот только язык у меня не грязный, а бойкий. Грязного я ничего не сказал. Жизнь это, жизнь как она есть. А ты, Озабоченный, запишись все-таки за завтраком ходить.
– Обязательно запишусь. Мне только интересно, она красивая?
– Не скажу, чтобы сохранить интригу, – сказал Заратуштра. – Скажу только примету: она все время вместо веера обмахивается бумажным самолетиком. – А о красоте спроси у Философа, может быть, он не хочет сохранить интригу.
– Философ, а, Философ? Она красивая? Что ты молчишь? Трудно сказать?
– Трудно… Язык не поворачивается правду о ней сказать…. Какое-то оскорбление получается, оскорбление для всех красивых женщин. Словно на всех красивых женщин ее грязная тень падает. Но она – красивая. Она – удивительно красивая…
ГЛАВА 25
Кафе «Стрелка» хоть и называлось кафе, но кофием здесь даже и не пахло. Герду встретил запах пива. За столами тут и там сидели в большинстве своем одетые в тренировочные костюмы мужчины, большей частью небритые, переговаривались матом и жаргоном и потягивали пиво. Кое-где на столах стояла и водка.
Герда решила, что надо, по возможности, казаться своей. Она подошла к стойке и, кожей ощущая на себе нескромные взгляды мужчин, тоже заказала пиво. Взяв бокал, она, отойдя от стойки, нерешительно остановилась, поскольку все столики, хотя бы одним человеком, но были заняты.
– Иди сюда, подруга! Я не кусаюсь! – сказал мужчина лет сорока, одетый, в отличие от остальных, в костюм, и Герда посмотрела на него внимательнее. Доверия он не внушал. Что-то было неприятное и отталкивающее в его полном вороватом лице, но куда-то приткнуться надо было, и Герда села за его столик.
– Какими судьбами? – спросил он. – Ведь ты, я вижу, не конкретная?
– Как это «не конкретная»? – спросила Герда.
– Ну не блатная. Так какими судьбами?
– Пока не скажу. Мне нужно к вам присмотреться.
– Ну присмотрись. Присмотрись…
Герда еще раз и еще внимательнее оглядела мужчин за столами. Все были подвыпившими, а этот, рядом, по крайней мере, был трезв.
– Ну что, присмотрелась?
– Присмотрелась, – сказала Герда.
– Ну так давай познакомимся. Меня Глебом зовут. Только я не Жеглов.
– Меня зовут Гердой.
– Ну, за знакомство тогда, Герда?
Он поднял свой бокал, Герда – свой, они чокнулись и отпили по глотку. ПотомГлеб взял лежащую на столе пачку сигарет и протянул Герде.
– Спасибо, – сказала она, – только я не курю.
– Это хорошо, – похвалил Глеб, закуривая. – Это очень важно для женщины. А то сейчас и курят, и одновременно пытаются выкармливать грудью ребенка, а это нехорошо, не по-женски это, не основательно. Женщина должна быть основательной.
Последние слова как будто добавили Глебу весомости, и Герда решилась спросить.
– Вы сидели?
– Чалился, – сказал Глеб.
– А за что чалились?
– Ну, на такие вопросы обычно не отвечают, потому что такие вопросы обычно не задают. Но тебе – простительно, потому что ты – молоденькая, наивная.
– Просто я мало еще сталкивалась с такими людьми. Я даже слово «чалиться» только раз до этого слышала.
– Ты, наверное, не смотришь сериалы про ментов.
– Не смотрю.
– А зря. Многие из них даже меня учат жизни.
– Ну, так за что вы сидели? – осмелилась она спросить еще раз.
– А сидел я за гоп-стоп. За вооруженное ограбление.
– Ну, что такое «гоп-стоп» я знаю. А чем вы были вооружены?
– Пистолетом.
– А вы могли бы вооружиться чем-нибудь другим? Например, винтовкой с оптическим прицелом?
Глеб посмотрел на Герду внимательнее.
– Зачем тебе винтовка с оптическим прицелом? – прямо спросил он.
– Я не о себе. Я о вас.
– Не держи меня за идиота. Зачем тебе?
– Ну, раз уж вы такой догадливый…. Хочу охотиться на кабанов. Говорят, что восточнее Саратова их развелось видимо-невидимо.
– Так далеко поедешь на охоту?
– У меня там родственники.
– А ты знаешь, что простакам не дозволено владеть нарезным оружием, а только гладкоствольным? Да и то только членам общества охотников.
– Да ведь и вы знали, что нельзя заниматься гоп-стопом, да еще с пистолетом?
– Счет один-один, согласен, – сказал Глеб. – Ну что ж, пойдем. Отведу тебя куда надо…. Пошли, – он мотнул головой в сторону входной двери, и оба вышли из кафе.
– Нам направо, – он снова мотнул головой, указывая путь.
По дороге Герда заподозрила недоброе, потому что поняла, что идут они по направлению к отделению полиции, а, увидев здание справа, на котором висела синяя табличка с золотыми буквами: «Полиция», остановилась.
– Дальше я не пойду, – сказала она. – Считайте, что я вас ни о чем не спрашивала.
– Пойдешь как миленькая, – Глеб вытащил из-под пиджака пистолет. – Ну, шуруй давай!
Герда постояла, посмотрела на здания, где везде висели камеры наружного наблюдения, и сдалась.
– Даже если бы я вас обезоружила и смылась, все равно меня бы нашли.
– Да уж! Давай лучше по-хорошему.
В отделении было пусто, только за столом упитанный полицейский ел черный хлеб с салом, розоватые ломтики которого лежали рядом на блюдечке.
– А этот все жрет! – вместо приветствия сказал Глеб.
– Ну и что? – спросил полицейский.
– Все жрет, и жрет, и жрет, и жрет, – продолжал Глеб.
– Ну и что? – повторил полицейский.
– Рожа треснет, вот что.
– Ну и что? – снова повторил полицейский.
– Ладно, тебя не проймешь. Займись-ка этой девчушкой. Оформи в обезьянник.
– А что она натворила?
– Пыталась приобрести оружие с оптическим прицелом.
– Да-а-а, – многозначительно протянул жующий. – Статья серьезная. Урановыми рудниками пахнет. Жаль мне тебя, девочка, жаль. Красавица ты. Ну – давай, садись на стул и давай свои документы.
Герда вынула из сумочки паспорт и протянула полицейскому.
В «обезьяннике», куда поместили Герду, уже были две небольшого роста блондинки характерной внешности: чересчур накрашенные и в юбчонках, едва прикрывавших трусики. Сам же «обезьянник» представлял собой бетонную коробку с серыми деревянными лавками вдоль стен. На одну из лавок Герда и присела.
– Закурить не будет, подруга? – спросила одна из девиц.
– Не курю, – сказала Герда.
– Хорошо тебе, а у нас уши пухнут без курева. А ты вроде интеллигентная, за что же тебя повязали?
– За попытку приобрести огнестрельное оружие.
– Да, это серьезно, это куда хуже, чем у нас с Машкой. Да, Машка?
– Похуже, – согласилась Машка.
– Ну что ж, давай знакомиться? – предложила разговорчивая девица. – Я – Нинка. А ее Машкой кличут. А кто мы – ты, наверное, догадываешься?
– Догадываюсь, – согласилась Герда.
– И, наверное, осуждаешь, ведь ты-то такая интеллигентная.
– Не осуждаю. Как я могу осуждать, не зная, как складывалась ваша жизнь? Может быть, и я занималась бы тем же, если бы моя жизнь сложилась по-другому. Не суди и не судим будешь.
– Не то ты говоришь. И не так, – сказала Нинка.
– Почему?
– Не знаю, но не то и не так. Может, оттого, что уж слишком длинно. А может и оттого, что как-то больно по-книжному твое «не суди и не судим будешь». Сказала бы «не осуждаю», – и достаточно. А то ты как проповедник или как учительница. Может, и вправду в школе преподаешь?
– Официанткой я работаю в баре.
– Официанткой? – удивилась Нинка. – Но ведь это же гроши! Мы бы с Машкой на такие гроши не прожили бы. Да, Машка?
– Да, – согласилась молчаливая Машка.
– Удивляюсь я тебе! – продолжала разговорчивая Нинка. – Это с твоей-то красотой быть официанткой. Ведь ты же вылитая модель, и даже красивее, чем в глянцевых журналах! Правда, Машка? Ты могла бы быть и элитной проституткой и такие деньжищи заколачивать, что нам и не снилось! Правда, Машка?
– Правда, – согласилась Машка.
– Я только две недели в официантках. До этого я работала редактором журнала «Наши лучшие друзья».
– Это про животных что ли?
– Да, про животных.
– И что же это так, вдруг из редакторов да в официантки.
– Поражение в правах.
– Так ты что? Бывшая хитрожопая?
– Да.
– Подожди, подожди, а ведь я тебя припоминаю! Ты же Герда Штерн! Ты слышишь, Машка? Скажи кому, что мы с тобой парились в одном обезьяннике вместе с дочерью Штерна – никто и не поверит! Правда, Машка?
– Точно не поверят.
– Я сейчас не Штерн, я Заболоцкая. Штерн я была до замужества.
– Так ты сейчас замужем? – спросила Нинка.
– Развелась.
– Это плохо. Дети остались от брака?
– Нет.
– Это хорошо. Ты такая еще молодая.
– Но у меня есть младший брат, и я ему вместо матери.
Тут Нинка поморщилась и простонала:
– Ой, как курить хочется! Может, достанем сигарет? Хватит стесняться, мы же не целочки?
– А кто будет доставать, ты или я?
– Давай, чтобы было по-честному, жребий бросим. У меня и монетка есть. Если орел – то я, если решка – то ты. Идет?
– Идет.
Нинка достала из карманчика юбчонки монетку, подкинула ее, поймала и, посмотрев, объявила:
– Решка!
Машка подошла к решетке и закричала:
– Эй, сержант, где ты там? Дело есть!
Ждали с минуту. Потом Машка снова закричала:
– Эй, сержант, где ты, а то я щас уссусь!
Появился сержант.
– Что за шум? – спросил он. – Кто тут уссыкается?
– Подойди и прислони ухо к решетке. Я на ушко тебе кое-то скажу.
Сержант приник к решетке, и Машка что-то прошептала ему на ухо. Он выслушал, отошел от решетки примерно на два метра, оглядел Машкину крепенькую фигурку и сказал:
– А ты ничего, но у меня только полпачки. Давай я тебе потом донесу?
– Давай полпачки, – сказала Машка, взяла сигареты из рук сержанта и кинула их Нинке.
Сержант открыл дверь и куда-то повел Машку.
– Тебе, наверное, все это в дикость? – спросила Нинка, когда шаги стихли.
– Нет, не в дикость, – сказала Герда. – Я не вчера родилась.
– Да, такова она, жизнь, если изнутри…. Не глянец, прямо скажем…
К решетке подошел еще один сержант.
– Кто тут Заболоцкая? – спросил он, глядя на Герду. – Ты?
– Я, – сказала Герда.
– Давай, суй руки между прутьями, я наручники надену.
– Куда меня? – спросила Герда.
– В центральный офис.
Когда Герду вывели из полицейской машины, она узнала площадь Степана Бендеры, где располагался центральный офис полиции. Поднялись на крыльцо, вошли внутрь, прошли по коридору и очутились перед какой-то дверью. Сержант постучал в двери, и они с Гердой вошли в кабинет. За столом сидел мужчина, склонившись над какими-то бумагами. Когда Герду подвели ближе, он поднял глаза от бумаг и указал ей на стул.
– Садитесь.
Герда села.
– Вы меня, наверное, знаете. Видели по телевизору. Я – Абакумов Геннадий Ильич, полковник Министерства Внутренних Дел. Вы только не знаете, что без ведома нашего министра не должно совершаться ни одно серьезное преступление, от поставок наркотиков до заказных убийств. Поэтому спрашиваю пока по-хорошему: зачем вам винтовка с оптическим прицелом?
– Я уже говорила, вашему сотруднику, что она мне нужна для охоты на кабана.
– А как зовут этого кабана?
– Веселый вопрос вы задали: как зовут кабана. Кабан он и есть кабан. Я его не крестила, что бы знать, как его зовут.
– Нет, вопрос я задал невеселый. Я грустный задал вопрос, просто вы весело на него ответили. Мне вот интересно, будете ли вы продолжать веселиться, если мы наденем на вас противогаз и лишим доступа воздуха. Если вы умрете от асфиксии, это не страшно. Мы объявим вашим родным, что вы сами повесились. Я знаю, нам не поверят, недоверчивый у нас народ, но это и не важно, потому что не народ у власти, а мы у власти. Вам все понятно?
– Нет, моя смерть вам даром не пройдет, гражданин Абакумов Геннадий Ильич. Я не Заболоцкая, я только стала Заболоцкой, а была я Герда Дмитриевна Штерн. Вам бы, да и вашему Жеглову, прежде заглянуть в базу данных надо было.
– Вы дочь Штерна?
– Да, я его дочь.
– Да, теперь я вас припоминаю…
Абакумов снял трубку и нажал какую-то кнопку на телефоне.
– Абакумов говорит. Соедините меня с генералом. Господин генерал? Тут вот какое дело… Мы взяли Герду Дмитриевну Заболоцкую, урожденную Штерн, за попытку приобрести оружие с оптическим прицелом. Что говорит? Говорит, что хотела купить для охоты на кабанов…. Понимаю…. Понимаю, что не время…. Да, да, санкции….Да, будет скандал…. Да, просто наивная. Да, просто дурочка…. До свидания, господин генерал.
Абакумов вышел из-за стола и приказал:
– Снимите с нее наручники.
Наручники сняли.
– Так я свободна? – спросила Герда, потирая запястья.
– Свободны пока. Только не думайте, что вам все всегда будет сходить с рук.
– Тогда до свидания, господин Абакумов.
– Погодите, я пропуск выпишу.
Он черкнул какую-то писульку, с которой Герда благополучно покинула здание.
Главы 26-50